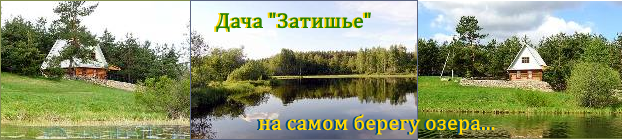К сожалению, поздно нашел первую статью М. В. Строганова.
Но лучше поздно, чем никогда. Статья очень хорошая и профессионально написана.
Очень жалко, что такие сборники не все оцифрованы, поэтому ценная информация остается известна только специалистам.
Статья еще 2018 г., если бы она была в открытом доступе...
Есть некоторые детали второстепенные, с которыми я не совсем согласен, но они не касаются сути самого вопроса о "мифе Святой Горы".
Можно посмотреть по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/cRUAZx5juc9c3AА это текст
Строганов Михаил Викторович.
Князь Михаил Тверской и Едимоново.
Завидовские чтения
Выпуск 4
Материалы научно-практической конференции
2018 года, сс. 94 -106.
Аннотация. С селом Едимоново Конаковского района связаны три предания: о первой
фиксации его в истории в 1215 г., о том, что мать великого князя Михаила Тверского
была родом из этого села, и о том, что около него князь Михаил прощался с семьей
перед отправлением в Орду на верную смерть. Выявление исторических корней этих
преданий ставит перед исследователем вопрос о локусах, склонных к мифологизации.
Ключевые слова. Князь Михаил Тверской, Едимоново, исторические предания, геокритицизм, историческая критика.
Существуют места, которые продуцируют вокруг себя мифообразование. Об одних местах легенды и мифы не слагаются. На других местах легенды и мифы растут как грибы. К таким мифотворческим местам относится и деревня (бывшее село) Едимоново.
Согласно первой легенде, первое упоминание о селе Едимонове в письменных источниках (очевидно, в летописях) относится к 1215 г. Поскольку в 1215 г. на территории будущего Тверского княжества ничего не происходило, кроме большой войны между князем Ярославом Всеволодовичем и Новгородским княжеством, речь, следовательно, должна идти именно о ней. Но в описаниях этой войны, которые мы находим в летописях, Едимоново ни разу не упоминается. Более того, нет этого названия в таких крупных сводах, как «Акты исторические, собранные Археографической комиссиею» [Акты исторические 1841–1842] и «Дополнения» к ним [Дополнения 1846–1872]. Едимоново не упоминается ни в «Актах социально-экономической истории Северо-Восточной Руси» [Акты 1952–1964], ни в «Грамотах Великого Новгорода и Пскова» [Грамоты 1949], ни в «Духовных и договорных грамотах великих и удельных князей» [Духовные 1950]. Единственным реальным историческим фактом можно назвать только городище дьяковской культуры раннего железного века (VII в. до н. э. – V в. н. э.) в 2,2 км к северо-западу от Едимонова на берегу Волги в месте, которое среди местного населения называлось Святая гора, и это название зафиксировано впервые на карте А.И. Менде (1853). Впрочем, позднейшие исследования не дали положительных археологических результатов, которые могли бы мотивировать это именование [Археологическая 2003. С. 155]. (Благодарю за консультации по всему этому вопросу В.В. Кузнецова.) Более того, среди памятников раннего и развитого средневековья (X–XIII вв.) никакого Едимонова мы также не находим, и первые сведения о нем получаем из Писцовых книг XVI в. [Счетчиков 1997. С. 20].
Вторая легенда гласит, что жена первого тверского князя Ярослава Ярославича Ксения (ум. 1312) была дочерью священника села Едимонова. Эти сведения давно уже и справедливо признаны преданием, которое относится к гораздо более позднему времени и не имеет под собой ни малейшей исторической основы (свод данных см.: [Гадалова 2011. С. 39–44]). Впрочем, некоторые критики этой легенды подчас сразу же уступают традиции, пытаясь согласовать ее с немногочисленными противоречащими ей фактами. Вследствие этого выдвигаются новые гипотезы; например, что «в XIII в. село Едимоново было вотчиной новгородского боярина, отца Ксении» [Малыгин 2008. С. 206]. Но в таком случае следует сначала предположить, что село Едимоново существовало в XIII в.
А кроме того, следует предположить, что вообще существовала практика держания вотчин на территории другого княжества (считай, вражеской территории). Так не слишком ли много предположений получается в таком случае? Но избыток предположений никого обычно не смущает, и информация о том, что именно в Едимонове «родилась мать в<еликого> к<нязя> Михаила Ярославича»(см.: [Тверь 2012. С. 168–170, 221–227; Тверь 2013. С. 149–154; Тверь 2014. С. 117, 384–385, 405]), постоянно встречающаяся в документальной литературе XIX в., до сих пор повторяется в популярных источниках, особенно в сетевых публикациях. Княгине Ксении даже присваивают отчество Юрьевна, предполагающее, что ее отца звали Георгием.
Но эта информация – только результат научной реконструкции, который не подтверждается никакими прямыми источниками. Однако для того, чтобы опровергнуть связь княгини Ксении с то ли существовавшим, то ли несуществовавшим Едимоновом, не надо справляться с историческими источниками, как это обычно делают ученые. Достаточно обратиться к простому здравому смыслу, чтобы понять, что в XIII в. места по левому берегу Волги были совершенно непроходимыми, поэтому князь Ярослав не мог по левому берегу ездить на охоту, тем более соколиную, которая требует открытого пространства. Для этого он должен был бы преодолеть не одну реку, впадающую в Волгу с левого берега, а среди них и весьма полноводную в то время Созь. Да и по правому берегу наземных дорог не было. Ведь мы помним, что Батый шел на русские княжества зимой по замерзшим рекам, а все путешественники, оставившие свои записки, использовали только водный транспорт. Наконец, если князь Ярослав был таким любителем охоты, каким его любят рисовать популярные издания, он Историко-краеведческая серия 97 вполне мог удовлетворить свои потребности в лесах в непосредственной близости от Твери.
Третья легенда связана с мифологизацией названия села, которое очень часто соотносят с именем литовского князя Гедимина (Едимона), который был отцом Марии, жены (с 1321) тверского князя Дмитрия Михайловича Грозные Очи. Никакой информации об этом в исторических источниках также не находится [Конявская 2005. С. 16–22]. Но если мы признаем эту этимологию достоверной, мы должны как следствие признать, что населенный пункт появился только в XIV в. В таком случае получается, что две предыдущие версии являются легендами, поскольку населенные пункты редко меняли свое название.
Но самый главный и занятный (четвертый) миф, порожденный Едимоновом, связан с часовней святого благоверного князя Михаила Тверского, которая находилась в двух километрах от села на так называемой Святой горе. Этот миф возник сравнительно поздно, так как и сама часовня появилась поздно, в последней трети XIX в. Часовня эта была построена в память об освобождении крестьян от крепостной зависимости [Тверской 1901. С. 415] (ср.: [Беляков 1993; Едимоново село]), и таких благодарственных часовен по всей России было возведено достаточно большое количество [Францев 2018. С. 143–146]. Но в Едимонове часовня имела специфическое посвящение, так как церковных престолов, посвященных святому благоверному князю Михаилу, очень немного [Михаил Тверской 2018]. Поэтому, когда на рубеже XIX–XX вв. причины ее возведения были основательно забыты, на первый план выдвинулось само посвящение. В этой ситуации люди стали искать мотивировку посвящения и вскоре ее придумали.
Первым, кто зафиксировал эту новую мотивировку, был знаменитый фотограф С.М. Прокудин-Горский, который одну из фотографий в своей тверской галерее подписал так: «Часовня наСв<ятой> горе (38 в. от Твери) на месте прощания св. князя Михаила Тверского с провожающими его в Орду боярами» [Наследие]. Поездка Прокудина-Горского по Верхней Волге состоялась в 1910 г., сам он едва ли сочинил эту легенду: для этого у него не было ни достаточных знаний, ни необходимой заинтересованности. Но поскольку свою экспедицию фотограф совершал с соизволения государя императора, постольку он пользовался помощью всех местных властей. Были у него и местные высококвалифицированные научные консультанты. А из этого следует, что к 1910 г. подлинную причину постройки часовни не помнили даже историки-краеведы.
Другим свидетельством этой мифологизации стала экскурсионная поездка в село Кузнецово учеников Тверской мужской гимназии 19–22 мая 1916 г., в рамках которой экскурсанты посетили Едимоново. Эта поездка была совершена под руководством директора гимназии Петра Петровича Чернышева, кандидата Московского университета, учителя древних языков, так что незнание истинных причин воздвижения часовни нельзя объяснять возрастом экскурсантов. Итак, ученик 8 класса М. Апыхтин пишет: «Собственно Едимонова мы не осматривали, а видели часовню, поставленную на месте прощания князя Михаила с княгинею Анной. Могучие ели окружают часовню, расположенную над обрывом, и нужно признаться, что красивее место трудно найти. Самаже часовня ничего из себя не представляет. На обратном пути к берегу (часовня в полуверсте от него) мы сделали несколько фотографических снимков» [Отчет 1917. С. 29]. Итак, часовня установлена не в память об отмене крепостного права, а на месте прощания князя Михаила с Анной Кашинской перед отправлением в Орду на верную смерть. И это не выдумка М. Апыхтина и не ошибка его, как в случае называния сосен елями. Ту же самую информацию сообщают нам и другие экскурсанты. В частности, ученик 7 класса Л. Ветлин писал: «Но вот, наконец, знаменитое своим далеким прошлым село Едимоново и замечательно красивая Едимоновская часовня. Здесь по нашему „маршруту“ значилась остановка. Катер ткнулся носом в мягкий прибрежный песок, и мы, столпившись на одном боку и сильно накренив суденышко, по очереди перепрыгиваем на берег. Перед нами открылась дивная картина. На высоком берегу Волги, сквозь столетние стволы высоких сосен, красовалась белая часовня причудливой древней архитектуры. Она замечательно гармонировала своей белизной с окружавшим ее темным сосновым лесом.
Когда подошли поближе, то увидали железную массивную дверь и ведущую к ней гранитную, поросшую мохом и покрытую сухой желтой хвоей папертку. При этом Петр Петрович вкратце объяснил нам значение этой древней часовни как исторического памятника. При его объяснениях мне припомнилась когда-то в детстве мною прочитанная и заинтересовавшая меня книжка под названием „Княжой отрок“. В ней в очень увлекательной форме рассказывалось о князе Михаиле, впоследствии замученном в Орде, – об его женитьбе на невесте „княжого“ отрока Григория, простой крестьянской девушке из села Едимонова, которую князь увидал в монастыре во время службы. Отвергнутый жених хотел с горя утопиться, но ему помешали. Тогда он ушел в дремучий лес на берегу Волги и основал знаменитый теперь Отрочь монастырь. Внутри часовни висела запыленная, облупленная икона, на которой был изображен князь Михаил, прощающийся со своей супругой перед тем, как ехать в Орду» [Отчет 1917. С. 42–43]. Мы видим, что Л. Ветлин читал, судя по всему, книгу Г.Т. Северцева-Полилова «Княжий отрок» (1912). Но он очень многое перепутал, так как вся рассказанная им история связана не с князем Михаилом, а с его отцом Ярославом Ярославичем (мы об этом вели речь ранее).
Свои воспоминания о прочитанном Л. Ветлин сообщил, видимо, другим экскурсантам, поэтому ученик 7 класса И. Алексеев уже напрямую связывает встречу князя с будущей женой и прощание с нею с одним и тем же местом: «Еще издалека увидали мы часовню села Едимонова, где решено было сойти на берег, чтобы осмотреть часовню, которая отстоит от берега приблизительно на ¼ версты. <…> Самая часовня, окруженная вековыми соснами, стоит на высоком валу. Вид с этого вала прекрасный: по одну сторону серебрилась ровная гладь Волги, а по другую зеленел огромный овраг, весь заросший лесом. Часовня, по преданию, построена тверским князем, который, охотясь, встретил на этом месте одну красивую едимоновскую девушку, на которой он потом и женился.
До этой часовни, как говорит предание, провожала Анна Кашинская своего мужа Михаила Ярославича, ехавшего в Орду» . Из сочинения И. Алексеева уже прямо следует, что и о женитьбе князя, и о проводах князя Михаила в Орду говорит одно и то же предание. Но еще раз повторим: эту ошибку допустили не только ученики, но и их наставник. Публикуя отчеты учащихся о поездке,
П.П. Чернышев приложил к ним свое стихотворение «Едимоново»,
написанное 5 июня 1916 г.:
Спасая свой край от набега, раздора,
Отдал он московскому князю ярлык
Княженья великого, всё же укора
Не мог избежать от тщеславных владык…
Злокозненный Юрий пред ханом Узбеком
Как злого смутьяна его очернил,
Опасным представил его человеком
И в злобной измене татарам винил.
И князь Михаил, ни на что невзирая,
Поехал в Орду, чтобы смыть клевету,
Чтоб правды добиться, хотя б умирая,
Чтоб детям оставить свою правоту…
Княгиня и дети его провожали
Далеко по Волге, за верст пятьдесят;
И слезы у них по ланитам бежали,
И слышалось часто, как там голосят…
В сосновом бору, невдали от селенья
Едимонова порешил Михаил
Расстаться с семьею, исполнен волненья,
Но веря в поддержку Божественных сил…
<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>
То место, в котором пред смертью расстался
С княгинею Анною князь Михаил,
Чтоб памятник прочный навеки остался,
Народ построеньем часовни почтил.
<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>
Историко-краеведческая серия 101
Века проходили, года всё летали,
Уж скоро шестьсот лет минует, пройдут,
А старые сосны, а старые ели,
Часовню скрывая, покой стерегут… [Отчет 1917. С. 46–47]
Между тем справочник И. Добровольского, в котором содержалась верная информация о причинах построения часовни, был хорошо известен. Но потребность в мифологизации заставляет многих людей утверждать и посейчас: «В двух верстах от села Едимоново находилась часовня святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского, построенная в память освобождения крестьян от крепостной зависимости. По преданию, часовня установлена на том месте, где тверской князь Михаил прощался со своей супругой перед отъездом в Орду» [Туристический портал. Едимоново; Митекин 1988]. Как видим, автор знает истинную причину, но предание для него важнее. И даже сообщая о том, что это предание, он тем не менее передает его: Белокаменная часовня с небольшим иконостасом внутри. Построена в память освобождения крестьян от крепостной зависимости. Находилась в двух верстах от села на „Святой горе“. По преданию, часовня установлена на том месте, где тверской князь Михаил прощался со своей супругой перед отъездом в Орду» [Туристический портал. Часовня]. И еще: «Около села Едимонова находилась „Святая гора“ с часовней на ней во имя Михаила Тверского. Со „Святой горой“ связано несколько народных преданий. По одному из них, здесь князь прощался со своей супругою и детьми, отправляясь в Орду, где он был убит. Каменная часовня была построена в память освобождения крестьян от крепостной зависимости» [Счетчиков 2000. С. 19]; cр. также: [Дунаев].
Сведения о том, что князь Михаил именно в Едимонове прощался перед отъездом в Орду, опровергаются тем, что в Пространной редакции повести о князе Михаиле даны совершенно определенные сведения о том, где это происходило. Княгиня Анна с сыновьями, боярами и духовенством провожала мужа не до Едимонова, а до города Кснятина (ныне село Скнятино), которое расположено при впадении в Волгу реки Нерли: «Князь же Михайло посла въ Орду сына своего Констянтина, а сам после его во Орду же пойде, благословаяся у епископа своего Варсонофия, и от игуменов, и от попов. И у отца своего духовнаго, Иоанна игумена, последнее же исповедание сотвори на реце на Нерли на многи часы, очищая душу свою… <…> До того же места проводи его благородная его княгина Анна и сын его князь Василей и возвратишеся от него со многим рыданием, испущающе от очию слезы, яки реку, не могущи разлучитися от возлюбленнаго своего князя». Ср. современный перевод: «Князь же Михаил послал в Орду сына своего Константина, а сам после него направился в Орду же, благословясь у епископа своего Варсонофия, и у игуменов, и у попов. И перед отцом своим духовным игуменом Иоанном последнюю исповедь совершил на реке Нерли в течение многих часов, очищая душу свою… <…> До того же места проводила его благородная княгиня его Анна и сын его князь Василий, и возвратились от него со многими рыданиями, испуская слезы из глаз, словно реку, не имея сил разлучиться с возлюбленным своим князем» [Михаил Тверской 2005. С. 162, 163].
Текст Пространной редакции повести о князе Михаиле был опубликован только в конце XX в., но историки знали его в начале XIX в., и Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» писал: «…великий князь, имея чистую совесть и готовый всем пожертвовать благу России, спокойно занимался в Твери делами правления; наконец, взяв благословение у епископа, поехал.Великая княгиня Анна провожала его до берегов Нерли: там он исповедался с умилением… <…> Михаил, скрывая свое горестное предчувствие от нежной супруги, велел ей возвратиться» [Карамзин 1993. С. 487].
Но хотя «Историю» Карамзина читали внимательно и увлеченно, эти сведения в памяти не сохранялись, и путешественники XIX в. ни разу не упомянули об этом. Дело в том, ни Пространная редакция повести о князе Михаиле, ни «История» Карамзина не упоминают тот город-крепость, до которого князь Михаил ехал с семьей и свитой. Но речь идет именно о городе Кснятине.
Между тем древнерусский город Кснятин (Коснятин, Константин, с XVII в. деревня Скнятино) при впадении реки Нерли в Волгу был основан Юрием Долгоруким в 1134 г., тогда же в нем была сооружена и церковь (по позднейшему посвящению Рождества Богородицы). Это был самый древний город тогдашнего Тверского княжества [Виноградов 1901. С. 4]. И на тот момент – это был последний город (укрепленный населенный пункт) на Волге в пределах Тверского княжества (Калязина еще не было). То есть княгиня Анна провожала мужа с сыновьями и свитой до пределов его отчины. Дальше начиналась Владимирская земля, где в то время княжил и хозяйничал противник князя Михаила князь Юрий Московский.
И теперь мы должны если не решить, то хотя бы обратиться к вопросу о том, почему именно это место стало так продуктивно формировать вокруг себя собственную мифологию. Откуда возникла у этой местности такая амбициозность?
Как пишет К.И. Счетчиков, опираясь на сведения писцовых книг 1627–1628 гг., владельцами села в это время значатся Михаил Рчинов и Дементий Погожев. Михаил Рчинов в 1630 г.отказал свою часть на царя Михаила Федоровича, а владелец другой половины села Едимонова отказал свою часть родному брату Исааку Погожеву. В 1640-е гг. дворцовую часть села получает боярин Борис Иванович Морозов. В 1681 г. Федор Рчинов отказал половину села Едимоново своему зятю стольнику Тимофею Григорьевичу Спешневу (и тут становится непонятно, откуда эта часть села у него появилась, если ранее Михаил Рчинов отказал эту часть государю). В 1685 г. владельцем становится Михаил Дмитриевич Коробин. Владельцем же другой половины села с 1668 г. становится князь Михаил Никитич Елецкий [Счетчиков 1997. С. 20].
Проверка всех этих данных никогда не производилась и требует обращения к оригинальным документам. Но совершенно очевидно, что именно на этом фоне и появляется во второй половине XVII в. повесть об отроке Григории. Следовало бы поискать, не был ли кто из владельцев Едимонова связан с Отрочем монастырем, и тогда происхождение легенды стало бы очевидным. Ну, а на эту легенду стали наслаиваться и все остальные, о которых мы рассказали раньше.
Тем не менее, в том же сборнике, на стр. 222-223. Очередная «краеведческая статья».

«Но окрестности села все-таки связаны с именем князя, оставившего глубокий след в русской истории. У Едимоново, вверх по течению Волги, ближе к Твери, с древних времен на взго рье стояла деревянная часовня. К ней относится еще одно преда ние, по которому тверской князь Михаил Ярославич, отправляясь в Орду держать ответ за победу в 1317 г. над отрядами Юрия Московского и хана Кавгадыя у села Бортенево и за смерть попав шей в плен жены Юрия Кончаки, именно здесь простился с боя рами и со своей женой, княгиней Анной Дмитриевной Ростовской, в монашестве Кашинской. Правда, из летописи известно, что Анна с сыновьями провожала Михаила до реки Нерли у Калязина. Тем не менее эта легенда не подвергается сомнению».
Интересно, а почему автор делает такие выводы? Критической литературы предостаточно!
«Найдено упоминание о том, что останки Михаила Ярославича Тверского, перевозимые из Москвы водным путем в сентябре 1319 г., оказались в окрестностях села Едимоново. В память об этом событии на высоком берегу Волги был поставлен поклонный крест, а после канонизации князя (1549) – деревянная часовня».
А это откуда???!!!! Где хотя бы элементарная ссылка, опять «агентство ОБС»? Все как всегда! А зачем ссылки? А предания , а так в народе говорят….